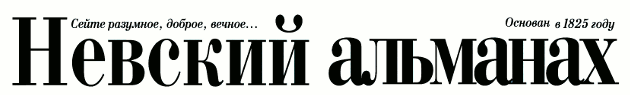
журнал писателей России
link href="../../rat.css" rel="stylesheet" type="text/css">
Вера СТЕПАНОВА, Инна ТРОЙНОВА - Эхо «Серебряного века»: ДИАЛОГ о ПОЭЗИИ
Вера СТЕПАНОВА,
Инна ТРОЙНОВА
Эхо «Серебряного века»: ДИАЛОГ о ПОЭЗИИ

 При постижении талантливого поэта важно проникнуть и в творческую, и в житейскую психологию творца, но понять при этом истоки не быта, но бытия, узнать о трудах и днях, не отделяя одно от другого.
При постижении талантливого поэта важно проникнуть и в творческую, и в житейскую психологию творца, но понять при этом истоки не быта, но бытия, узнать о трудах и днях, не отделяя одно от другого.
В “Невском альманахе” не в первый раз ведётся разговор об основах поэтического мастерства. Диалог авторов нашего журнала Веры Степановой и Инны Тройновой о природе поэзии на примере восприятия ими творчества и личности гениального русского поэта Марины Цветаевой, надеемся, будет интересен нашим читателям.
ВЕРА СТЕПАНОВА:
Цветаева всегда жаждала встречи с тем читателем, который был бы воплощением её собственного альтер эго. Хрестоматийно известно выражение Цветаевой “Чтение есть соучастие в творчестве”. Подобное активное “соучастие” для меня началось в конце 70-х, когда появился двухтомник поэзии и прозы М.Цветаевой, откомментированный Анной Саакянц, занимающейся многие годы изучением творчества поэта. Именно тогда читатель смог прикоснуться к подробностям трагической биографии Цветаевой, получить информацию о культурологических истоках её творчества. Стала поддаваться дешифровке философия дискомфорта, откровенно заявленная Мариной Ивановной в основной массе её произведений. Вы обратили внимание, Инна, что она ведёт речь о трагичности существования вообще, вне зависимости от контекста времени?
ИННА ТРОЙНОВА:
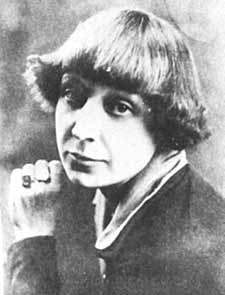 Поэт от рождения, она была наделена пытливым умом, владела страстным, “безмерным” сердцем, неутолимой потребностью любить. Потрясает её жадный, никогда не угасающий интерес к жизни и людям. Она вступила в литературу на рубеже веков – в переломную эпоху предгрозья, которая, по словам А.Блока, предвещала “неслыханные перемены, невиданные мятежи”. Поэтов её поколения – очень разных – объединяло ощущение трагизма этого мира, в котором “уюта нет, покоя нет”. И Цветаева, как и её лирическая героиня, никогда не знала покоя. Она выходила навстречу всем бурям настоящего и грядущего:
Поэт от рождения, она была наделена пытливым умом, владела страстным, “безмерным” сердцем, неутолимой потребностью любить. Потрясает её жадный, никогда не угасающий интерес к жизни и людям. Она вступила в литературу на рубеже веков – в переломную эпоху предгрозья, которая, по словам А.Блока, предвещала “неслыханные перемены, невиданные мятежи”. Поэтов её поколения – очень разных – объединяло ощущение трагизма этого мира, в котором “уюта нет, покоя нет”. И Цветаева, как и её лирическая героиня, никогда не знала покоя. Она выходила навстречу всем бурям настоящего и грядущего:
Другие – с очами
и личиком светлым,
А я-то ночами
беседую с ветром.
Не с тем – италийским
Зефиром младым,
С хорошим, широким,
Российским, сквозным!
Это её стихотворение 1920 года.
ВЕРА СТЕПАНОВА:
В рабочей тетради Цветаевой за 1940-1941 годы есть её перевод Герша Вебера, в нём всё удивительно созвучно её личной и поэтической судьбе:
На трудных тропах бытия
Мой спутник – молодость моя.
Бегут как дети по бокам
Ум с глупостью, в серёдке – сам.
А впереди – крылатый взмах:
Любовь на золотых крылах.
А этот шелест за спиной –
То поступь вечности за мной.
Известно, что дочь Марины Ивановны Ариадна Эфрон завещала не издавать до 2000 года архив матери, в котором хранились и рабочие тетради, и основная масса писем и записных книжек. Так сложилось, что произведения Марины Ивановны, факты её биографии долго не были доступны читателям послевоенных поколений.
Инна, при каких обстоятельствах состоялась Ваша встреча с поэзией Цветаевой?
ИННА ТРОЙНОВА:
Это произошло в начале 1994 года, в тревожной негостеприимной Москве. В один из дней я оказалась в коридоре какой-то школы. И вдруг будто магнитом притянуло взгляд к разрисованному листу стенной газеты, а на нём цветным фломастером печатными буквами:
Красною кистью
Рябина зажглась,
Падали листья.
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.
Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.
Марина Цветаева, 1916г.
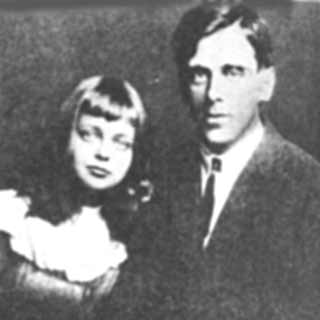 Когда прочла это – ошеломило, заставило забыть, где я, переместило из этого времени и пространства – в иное. Так она вошла в мою жизнь. Не вошла – ворвалась, чтобы быть рядом теперь уже всегда. Поистине – всему своё время. Я и прежде слышала, что была такая поэтесса – Марина Цветаева, но ею не интересовалась, а по возвращении из Москвы раскопала в книжном шкафу подаренный кем-то сборник её стихов, раскрыла – и возникла необъяснимая, почти мистическая связь души с душой. Марина была живая. Она была близко и говорила. И даже – она была внутри и оттуда говорила. А если со мной так говорят, разве можно не ответить? Ответила стихами. И начался наш диалог: слово за слово, строка к строке, стих за стих. Говорили, бывало, разом, перебивая друг друга, то плача от радости, то чуть ли не ссорясь. А то - начитаюсь на ночь “до отвала”, а назавтра на работе в самых неподходящих для сочинительства местах в голове начинают раскручиваться строчки с явными признаками “родства”: пульсирующий, срывающийся ритм, аллитерации, неожиданные обрывы слов с переносом их “этажом ниже”, неточная диссонансная рифма… Например, так:
Когда прочла это – ошеломило, заставило забыть, где я, переместило из этого времени и пространства – в иное. Так она вошла в мою жизнь. Не вошла – ворвалась, чтобы быть рядом теперь уже всегда. Поистине – всему своё время. Я и прежде слышала, что была такая поэтесса – Марина Цветаева, но ею не интересовалась, а по возвращении из Москвы раскопала в книжном шкафу подаренный кем-то сборник её стихов, раскрыла – и возникла необъяснимая, почти мистическая связь души с душой. Марина была живая. Она была близко и говорила. И даже – она была внутри и оттуда говорила. А если со мной так говорят, разве можно не ответить? Ответила стихами. И начался наш диалог: слово за слово, строка к строке, стих за стих. Говорили, бывало, разом, перебивая друг друга, то плача от радости, то чуть ли не ссорясь. А то - начитаюсь на ночь “до отвала”, а назавтра на работе в самых неподходящих для сочинительства местах в голове начинают раскручиваться строчки с явными признаками “родства”: пульсирующий, срывающийся ритм, аллитерации, неожиданные обрывы слов с переносом их “этажом ниже”, неточная диссонансная рифма… Например, так:
...Одна-единственная страсть –
неутолимая.
Страсть – не к губам припасть,
к – словам.
Их прясть. Любимое:
Их – ткать. В них – сласть!
Им – власть!
Слова, не удалимые
Из сердца...
ВЕРА СТЕПАНОВА:
А мне запомнился, Инна, Ваш ёмкий, афористичный, при всём его лаконизме, стих “О стихе Марины Цветаевой”, опубликованный в “Невском альманахе” №3 за 2004 год:
Разве нежен?
Бешен, дик
Этот стих.
Разве нужен?
Режет слух,
Ранит дух,
Искры мечет,
Учит речи,
Мучит.
Нету – лучше!
 Это стихотворение ни в коем случае не эпигонское. Оно точно отражает суть вашего контакта с музой М.Цветаевой, природой её голоса, её творческого метода. Встреча с гением поэзии всегда как ожог, взрыв, нечто необыкновенное. Мне запомнилось суждение Иосифа Бродского об ошеломлении от книги стихов Осипа Мандельштама “Камень”. Он её прочитал в 1961 году: “… есть что-то совершенно потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а, прежде всего – с языковой неизбежностью. После этого ты уже говоришь другим языком”. То есть с Вами произошло то же. Как, впрочем, и со мной, когда в Б 14-06';return false;">
Это стихотворение ни в коем случае не эпигонское. Оно точно отражает суть вашего контакта с музой М.Цветаевой, природой её голоса, её творческого метода. Встреча с гением поэзии всегда как ожог, взрыв, нечто необыкновенное. Мне запомнилось суждение Иосифа Бродского об ошеломлении от книги стихов Осипа Мандельштама “Камень”. Он её прочитал в 1961 году: “… есть что-то совершенно потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а, прежде всего – с языковой неизбежностью. После этого ты уже говоришь другим языком”. То есть с Вами произошло то же. Как, впрочем, и со мной, когда в Б 14-06';return false;">



